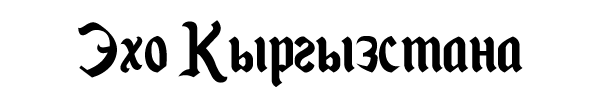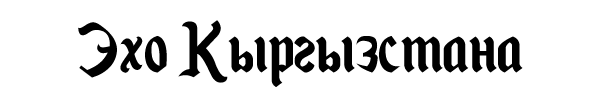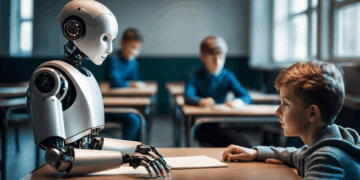После того как администрация Трампа ввела повышенные пошлины на импорт почти со всего мира, президент неожиданно объявил о 90-дневной приостановке дальнейшего увеличения тарифов. Однако это послабление коснулось не всех: Китай остался в стороне. Пекин не только не поддался давлению со стороны Вашингтона, но и ответил симметричными мерами, введя ответные пошлины на американские товары. В ответ Трамп пообещал повысить тарифы на китайский экспорт до ошеломительных 125 %, демонстрируя намерение ужесточить торговую войну.
Объясняя столь резкую перемену в стратегии, в США заговорили о внутреннем давлении на Белый дом. Как считают многие экономисты и политики, обвал фондового рынка оказал болезненное воздействие на президента. Сенатор Эми Клобушар, в частности, отметила, что Трамп, вероятно, осознал последствия своей политики — «налоги» в размере до 4000 долларов на каждую американскую семью, вызванные ростом цен из-за пошлин, стали серьёзным ударом по среднему классу.
Увеличивающаяся неопределённость и риски для американской экономики заставили влиятельные политические и деловые круги США выступить против методов, применяемых Трампом. К смягчению конфронтации с Пекином призвали даже ближайшие союзники президента — миллиардеры Илон Маск и Билл Акман, активно поддерживавшие его на выборах.
Несмотря на то, что торговая война была подана как средство экономического давления, она имела и явную политическую составляющую. Повышенные тарифы позволяли быстро пополнять федеральный бюджет за счёт поступлений от импорта, что Трамп мог представить избирателям как результативную политику перед промежуточными выборами в Конгресс.
Тактическая цель президента США, заключавшаяся в том, чтобы навязать другим странам новые правила торговли на американских условиях, частично достигнута. Несколько государств действительно согласились пересмотреть соглашения. Однако главная задача — заставить Китай согласиться на условия, наносящие ущерб его экономике, — остаётся недостигнутой.
Китайские аналитики указывают, что новая тарифная политика США нарушает глобальные торговые связи и несёт угрозу рецессии. В этих условиях может усилиться роль альтернативных международных валют, в первую очередь китайского юаня, а также возникнуть предпосылки к появлению новых платёжных систем.
Главный экономист банка BOCI China Гуань Тао подчёркивает, что мировой оборот доллара напрямую зависит от торгового дефицита США: чтобы обеспечивать мировую экономику долларовой ликвидностью, Вашингтон должен больше импортировать, чем экспортировать. Ведь доллар до сих пор остаётся основной валютой, за которую ведётся глобальная торговля.
Так происходило с середины XX века: начиная с 1960-х годов, США поддерживали отрицательное сальдо торгового баланса. Это обеспечивало мировой спрос на доллары, позволяя американской валюте сохранять статус глобальной резервной. Однако обратной стороной такого подхода стала деиндустриализация американской экономики и сокращение её доли в мировом ВВП, а также постепенное усиление конкурирующих валют на международной арене.
По словам Гуаня Тао, если США продолжат бороться с дефицитом при помощи взаимных тарифов, это приведёт к сокращению долларовой ликвидности и, как следствие, к ослаблению позиций доллара в международных расчётах.
Тем не менее Белый дом ставил перед собой иную цель: с помощью торговой войны не только изменить условия соглашений, но и получить преимущество в ценовой конкуренции. Поскольку США не могли быстро увеличить производительность труда и снизить издержки производства, ставку сделали на удорожание импорта. Повышая тарифы, Вашингтон рассчитывал увеличить себестоимость продукции у иностранных производителей и тем самым получить преимущество на внешнем и внутреннем рынках.
Кроме того, пошлины должны были заставить торговых партнёров «заплатить за доступ» к американскому рынку. Странам, желающим заключить сделки с США на их условиях, могли быть предложены, например, инвестиции в казначейские облигации с нулевой доходностью или согласие на удержание комиссий при выплатах по долговым бумагам, которыми владеют иностранные центробанки.
Хотя такой подход имеет некоторые экономические основания, он сопряжён с серьёзными рисками. Повышение тарифов может вызвать рост цен по всей производственной цепочке, что приведёт к удорожанию товаров на глобальном уровне. Это ударит не только по США, но и по крупнейшим экономическим блокам — Китаю и ЕС.
Как подсчитала сенатор Клобушар, рост затрат на потребительские товары в США может достигнуть 4000 долларов на семью. Если американский средний класс ещё способен справиться с такими расходами, то для менее обеспеченных стран-партнёров, где уровень жизни ниже, это станет серьёзным вызовом. В итоге, по расчётам Трампа, ослабление потребительского спроса и снижение производственной активности в других странах приведёт их экономики к стагнации.
Однако такая стратегия ударяет и по самим США. Жёсткая ценовая конкуренция может привести к банкротству многих американских компаний, особенно тех, кто не выдерживает затяжной экономической войны. Это также ставит под угрозу благополучие миллионов семей, живущих на грани бедности.
Ответные меры со стороны Китая и других стран не только снижают эффективность американской политики, но и провоцируют фрагментацию глобальной торговли. В результате усиливается значение региональных валют, которые становятся более востребованными для расчётов внутри отдельных рынков. Это может означать, что вопреки намерениям Трампа, мировой бизнес не вернётся в США, а производство не будет перенесено обратно.
В этом случае процесс дедолларизации только ускорится, и роль американской валюты как мировой может перейти, хотя бы частично, к юаню и другим валютам.
Ответные действия Китая развивают события именно в этом направлении. Заместитель директора Института финансов и банковского дела Чжан Мин подчёркивает, что Пекин намерен активизировать усилия по интернационализации юаня. Среди ключевых шагов – увеличение использования юаня при расчётах за сырьевые товары, расширение его роли в международном ценообразовании и предложение иностранным инвесторам качественных финансовых инструментов в юанях, включая государственные облигации КНР.
Одновременно Китай усиливает дипломатическую активность, выстраивая альянсы с Европейским союзом и странами АСЕАН. Всё больше европейских политиков рассматривают Пекин не как угрозу, а как возможного союзника в противостоянии с американским тарифным давлением.
Для Китая открывается шанс поддержать Европу в её споре с администрацией Трампа и не допустить формирования единого западного фронта по сдерживанию КНР — курса, к которому стремилась команда Байдена. В КНР подчёркивают, что Брюссель начинает ценить вклад Китая в поддержку европейской интеграции и стремления ЕС к стратегической автономии.
Лишь за последние дни Китай посетили ключевые европейские представители: председатель Сената Италии Игнацио Ла Русса, главы внешнеполитических ведомств Португалии и Франции, председатель парламента Финляндии, а также еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович. В ближайшее время в Китай прибудет премьер-министр Испании Педро Санчес.
Эти визиты уже привели к договорённостям о возобновлении диалога между ЕС и Китаем по вопросам торговых споров и упрощению доступа к рынкам. Стороны обсудили, в частности, возможность отмены защитных мер Евросоюза в отношении китайских электромобилей, а также возможные ответные шаги Китая в отношении европейских продуктов питания и алкоголя. Также было выражено обоюдное желание рассмотреть совместные инвестиции в автопром КНР и ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном выразила готовность развивать высокоуровневый диалог в различных сферах. Она также подчеркнула важность преемственности в условиях растущей нестабильности. Европейские СМИ отметили, что фон дер Ляйен уже ранее демонстрировала более сдержанный подход к Китаю и выступала за расширение экономического сотрудничества.
Несмотря на временную паузу в наращивании тарифов, стратегические цели администрации Трампа остаются неизменными. Белый дом намерен вернуть производство в США, замедлить процесс дедолларизации и ограничить рост влияния конкурентов — прежде всего Китая. Методы достижения этих целей также не претерпели изменений.
Это означает, что мировой экономике по-прежнему грозят инфляционные волны и риск рецессии, что в свою очередь может ударить по российской экономике, снижая мировые цены на сырьё.